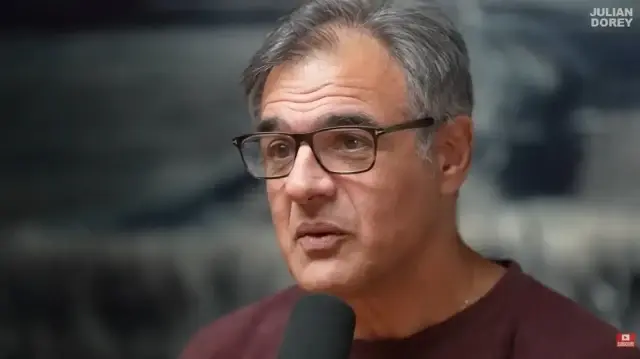
Бывший офицер ЦРУ и разоблачитель программы «усиленных допросов» Джон Кириаку дал большое, местами резонансное интервью блогеру Julian Derey. В многочасовой беседе он высказывается о рисках ядерной эскалации, израильской ядерной политике, скрытых возможностях ЦРУ в киберпространстве, работе союзных разведок и моральных провалах США после 11 сентября.
«Я всё чаще думаю, что кто-то действительно применит ядерную бомбу»
Кириаку признаётся, что в последние годы его всё больше преследует мысль: использование ядерного оружия в обозримом будущем перестало быть чистой теорией.
По его словам, ещё недавно сценарий применения ядерного заряда многим казался невероятным, но сейчас он задаёт себе два очень конкретных вопроса: насколько реалистично, что ядерное оружие будет применено, и каким могут быть последствия — в зависимости от того, где именно это произойдёт.
Бывший офицер ЦРУ говорит, что сегодня видит как минимум несколько направлений, где риск выглядит не абстрактным, а вполне предметным: потенциальный удар Израиля по Ирану и возможный обмен ударами между Индией и Пакистаном.
Израиль, Иран и «ядерное сдерживание, к которому вынудили»
Комментируя многолетние израильские удары по иранским объектам, Кириаку утверждает, что именно эти атаки фактически подтолкнули Тегеран к разработке собственного ядерного оружия.
По его словам, в момент начала эскалации у Ирана не было ни урана оружейного качества, ни полноценной системы доставки. Однако постоянные бомбардировки, убийства на территории страны и операции разведки создают для иранского руководства ощущение экзистенциальной угрозы.
В такой ситуации, считает Кириаку, у Тегерана не остаётся другого варианта, кроме как стремиться к созданию ядерного сдерживания. Это, по его интерпретации, не агрессивный проект, а ответ на давление и попытка «сделать так, чтобы с ними считались».
«Израиль действительно был готов применить ядерное оружие»
Одно из самых резких заявлений Кириаку касается готовности Израиля к реальному применению ядерного арсенала.
Он утверждает, что в один из кризисных периодов израильское руководство было не просто готово угрожать, а «реально намеревалось» использовать ядерное оружие против Ирана. Именно отсюда, по его словам, и происходит столь часто используемый Тель-Авивом термин «экзистенциальная угроза».
Кириаку также утверждает, что при Дональде Трампе Израиль впервые перешёл от общего давления к прямой формуле: если США не нанесут удар по иранским подземным объектам, Израиль сделает это сам, используя ядерное оружие.
По его версии, Трамп принял решение о нанесении ограниченных ударов по иранской инфраструктуре именно исходя из логики «предотвратить худшее»: обычная бомбардировка как цена за то, чтобы не допустить ядерной вспышки на Ближнем Востоке.
Ядерная двусмысленность: израильский арсенал, о котором «никто не говорит вслух»
Кириаку напоминает, что официально Израиль никогда не признавал наличие ядерного оружия, придерживаясь политики так называемой «ядерной двусмысленности».
При этом, по его словам, в профессиональной среде исходят из того, что работы по ядерной программе начались ещё в 1950-е годы, а первые боезаряды могли появиться у страны в конце 1960-х — начале 1970-х.
Он указывает на дело Мордехая Вануну — техника из Димоны, который опубликовал сведения о ядерном центре и был осуждён за государственную измену.
Отдельную деталь Кириаку приводит из опыта своего бывшего начальника: тот направил в цензурный орган ЦРУ рукопись книги о внешней политике США, и из всей работы цензоры вычеркнули лишь три слова — «израильская ядерная программа».
По мнению Кириаку, подобная цензура выглядит злоупотреблением. США, считает он, не обязаны «охранять секрет» о возможном ядерном статусе Израиля, тем более что Вашингтон не является источником этой тайны и не классифицировал её сам.
Южная Африка, «инцидент Vela» и версия о ядерном сотрудничестве
В интервью всплывает и тема возможной ядерной кооперации Израиля с режимом апартеида в Южной Африке.
Кириаку напоминает, что в 1970-е годы страны поддерживали тесное секретное военное сотрудничество, а в ООН Претория была одним из самых последовательных сторонников Израиля.
Он ссылается на давние версии о том, что за загадочным «инцидентом Vela» 1979 года — зафиксированной спутником двойной вспышкой в Южной Атлантике — могло стоять совместное ядерное испытание.
Официальных подтверждений этим версиям нет, но Кириаку отмечает, что разговоры о возможной передаче технологий и материалов или совместных тестах циркулируют десятилетиями и до сих пор остаются на периферии публичной повестки.
«Если ударят по США — ответ будет ядерным»
Отвечая на вопрос о возможной реакции США на применение ядерного оружия против американской территории, Кириаку говорит прямо: он не видит сценария, при котором Вашингтон не ответил бы ядерным ударом.
По его словам, если бы, к примеру, Северная Корея применила ядерное оружие против США, «Северной Кореи на следующий день просто бы не существовало».
При этом он допускает, что в случае ограниченного обмена ударами между Индией и Пакистаном глобального «цепного» сценария может и не случиться: страны нанесли бы по одному удару друг по другу, а остальной мир ограничился бы резкими заявлениями в Совбезе ООН.
Кириаку подчёркивает, что у международного сообщества, по его оценке, уже не осталось эффективных инструментов воздействия на государства, которые готовы перейти «ядерный Рубикон».
Ядерный протокол США: бункеры, «ядерный чемоданчик» и судьба остальных
Особое внимание в беседе уделяется вопросу: как технически устроена система принятия решения о ядерном ударе в США.
Кириаку подтверждает, что при необходимости приказ может быть отдан и реализован в течение считаных десятков секунд. Президент всегда сопровождается офицером с «ядерным чемоданчиком», где содержатся коды и процедуры.
В случае непосредственной угрозы глава государства, вице-президент, члены кабинета, лидеры Конгресса и их семьи эвакуируются в защищённые подземные комплексы — среди них он называет Mount Weather на границе Вирджинии и Западной Вирджинии и объект в Колорадо. Оттуда президент может отдать приказ о пуске, в том числе находясь на борту Air Force One.
«Для всех остальных, если говорить честно, — каждый сам за себя», — констатирует Кириаку, отмечая, что сам живёт всего в трёх милях от Белого дома и в случае реального удара «вряд ли успеет куда-то уехать».
Он признаёт, что его тревожит не только формальный протокол, но и вопрос: сохранится ли вообще какая-то вертикаль власти после обмена ударами, или общество перейдёт в состояние полного распада, где «никакого президента, по сути, уже не будет».
Антиутопии как предупреждение: от «Дороги» до «Soylent Green»
Размышляя о возможном «дне после», Кириаку обращается к культурным образам.
Он вспоминает роман Кормака Маккарти «Дорога», где мир после катастрофы превращается в пространство, где отец и сын просто идут вперёд по шоссе, не зная, что их ждёт и есть ли вообще смысл в этом движении.
Ещё один образ — фильм «Soylent Green» 1973 года, в котором перенаселённая, истощённая Земля живёт в условиях дефицита ресурсов, а государство буквально перерабатывает людей в пищевой продукт.
Кириаку рассказывает, что в ЦРУ к этому фильму относились с чёрным юмором: некоторые сотрудники вписывали в официальные шифртелеграммы среди сплошных заглавных букв аккуратные строчные, которые в сумме складывались во фразу «SOYLENT GREEN IS PEOPLE». Это была скрытая шутка для внимательных коллег.
Он признаётся, что ему «ненавистно, что вообще приходится об этом думать», но текущие конфликты и технологическое развитие таковы, что ядерная тема уже не воспринимается как чистая фантастика 1970-х.
Свобода слова, Такер Карлсон и Ник Фуэнтес: новая линия раскола в США
Часть интервью отходит от темы ядерного оружия и переходит к внутренним американским спорам о свободе слова.
Поводом стала резкая реакция на решение Такера Карлсона взять интервью у праворадикального активиста Ника Фуэнтеса.
Кириаку, называя себя приверженцем радикальной свободы слова, говорит, что любой человек, включая Фуэнтеса, имеет право говорить. Если его взгляды общество считает отвратительными, то лучший способ это продемонстрировать — дать ему высказаться и позволить аудитории увидеть это своими глазами.
Он с удивлением описывает попытки части консервативной среды «отменить» Карлсона за сам факт разговора с Фуэнтесом и считает подобную реакцию зеркалом тех же механик давления, против которых консерваторы обычно выступают.
Отдельно Кириаку критикует тенденцию объявлять любую критику политики нынешнего израильского правительства «антисемитизмом». Он приводит слова своего израильского знакомого, который утверждал, что в школах детей учат любой критический комментарий о действиях государства маркировать как антисемитский, чтобы подавить дискуссию.
«Я могу критиковать любое правительство в мире — от Китая до любой другой страны, и это не будет расизмом. Но когда речь идёт об этом государстве, критика suddenly объявляется ненавистью», — резюмирует он.
После 11 сентября: от этических стандартов к «серийным убийствам»
Возвращаясь к началу своей карьеры, Кириаку говорит, что до 11 сентября в ЦРУ он в основном работал с людьми, которые старались действовать в рамках этических норм.
Переломным моментом стал тот самый день, который он называет «крупнейшим провалом разведки в истории агентства».
Он подробно описывает, как в конце октября 2001 года психологи Джеймс Митчелл и Брюс Джессен представили директору ЦРУ Джорджу Тенету концепцию «усиленных методов допроса», как уже в январе был подписан контракт, а в марте задержан Абу Зубейда, ставший первым крупным «объектом» для новой программы.
По словам Кириаку, после 11 сентября многие в системе «словно сошли с ума», переключившись на логику массовых ликвидаций: уничтожить как можно больше членов вооружённых формирований, не задавая лишних вопросов о доказательствах и законности.
Он цитирует слова одного из бывших офицеров MI6, с которым вместе выступал в Великобритании:
Кириаку соглашается, что серия ударов по свадьбам, похоронам и целым деревням, когда целью могли быть один-два подозреваемых, превратила США из «борца с терроризмом» в источник мощной пропаганды для тех, кто вербует новых сторонников антиамериканского сопротивления.
Скандал Vault 7 и «свой собственный NSA внутри ЦРУ»
Одна из немногих вещей, которые действительно шокировали Кириаку уже после его ухода из ЦРУ, — это публикации WikiLeaks по делу Vault 7 в 2017 году.
Он рассказывает, что из этих материалов общественность узнала о целой линейке инструментов, разработанных ЦРУ:
возможность взлома сетей противников и оставления в них «подписи» на кириллице или китайском, чтобы создать впечатление атаки России или Китая;
технологии удалённого захвата контроля над автомобилем через бортовой компьютер — вплоть до отправки машины «в дерево или с моста»;
превращение «умного» телевизора в скрытое подслушивающее устройство: экран выключен, а микрофон передаёт всё, что происходит в комнате.
Отдельного подтверждённого применения этих технологий, по его словам, общественность не увидела, но сама возможность, открытая спецслужбами, стала серьёзным поводом для тревоги.
Кириаку обращает внимание, что традиционно подобные разработки являются сферой ответственности Агентства национальной безопасности (NSA) и исследовательской структуры DARPA, однако ЦРУ, обладая колоссальными бюджетами, строит собственный «внутренний NSA и внутреннюю DARPA».
Он вспоминает коллегу по ранним годам службы, который начинал как «компьютерный энтузиаст», а сегодня занимает пост замдиректора ЦРУ по инновациям и, по мнению Кириаку, курирует как раз те самые «безумные разработки», о которых мир узнаёт через утечки.
CIA vs NSA: конкуренция, дублирование функций и «слишком много денег»
На вопрос, зачем в таком случае вообще нужны отдельные ведомства — ЦРУ, NSA, DARPA, — Кириаку отвечает просто: бюрократия и конкуренция.
Пентагон и NSA, по его словам, настаивают, что их миссия — защита войск и территории США; ЦРУ исходит из своих задач в политико-разведывательной сфере и не хочет зависеть от военных; в итоге при огромных бюджетах каждое ведомство стремится иметь собственные инструменты, даже если функции уже покрыты другими структурами.
Кириаку добавляет, что Конгресс в полной мере не представляет, какие деньги реально проходят через разведсообщество. Ежегодно законодатели утверждают оборонный бюджет выше, чем просит сам Пентагон, чтобы никто не мог обвинить их в «мягкости по вопросам безопасности». На этом фоне скандалы с «пропавшими триллионами» и провалившимися аудитами лишь усиливают вопросы к системе.
При этом на оперативном уровне, говорит он, у него всегда были хорошие отношения с NSA: регулярные визиты, обмен информацией, неформальные предупреждения о готовящихся публикациях и даже помощь в проверке источников путём скрытого перехвата их телефонов.
Франция, Израиль и шпионские игры союзников
В отдельном блоке интервью Кириаку подробно говорит о том, как в ЦРУ оценивают разведки союзных государств.
Он вспоминает, как один знакомый всерьёз утверждал, что у израильской спецслужбы якобы существует принцип «не шпионить против США». По словам Кириаку, подобные заявления в профессиональной среде вызывают лишь смех.
Он рассказывает, что на раннем этапе обучения молодых сотрудников собирают в специальном помещении и знакомят с перечнем главных внешних шпионских угроз. В этом списке, по его словам, фигурируют Израиль, Китай и Россия, а также Куба и Франция.
В качестве иллюстрации он напоминает о деле Джонатана Полларда — сотрудника американских служб, работавшего на Израиль, которого курировал легендарный оперативник Рафи Эйтан.
Французские спецслужбы он описывает как крайне профессиональные, но жёсткие и готовые к силовым решениям.
Кириаку напоминает о скандале начала 1990-х, когда одного из первых сотрудников ЦРУ во Франции уличили в чрезмерно агрессивной работе. В ответ Париж выслал не только его, но и ряд других американских представителей. Отношения на несколько лет охладели.
После одного инцидента, когда транзитирующему через Париж оперативнику с дипломатическим паспортом и защищённым ноутбуком французские сотрудники безопасности, по его словам, проткнули служебный компьютер железнодорожным костылём, в ЦРУ приняли внутреннее решение: не использовать аэропорт Шарля де Голля даже для пересадок.
Говоря о франкофонной Африке и регионе Сахель, он утверждает, что французские силы действуют там крайне жёстко против боевиков «Аль-Каиды» и подозреваемых в терроризме, и это одна из причин, по которой США не стали активнее заходить в этот регион: всё поле занято Парижем.
При этом Кириаку подчёркивает: несмотря на членство Франции в НАТО и тесное сотрудничество, она не входит в клуб Five Eyes — союз США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, где разведслужбы буквально работают «как одна система» и принципиально не шпионят друг против друга.
Деньги, принципы и система, которая всё чаще даёт сбои
Через все истории, которыми делится Кириаку — от ядерных угроз и киберопераций до конвертов с 50 000 долларов из Бахрейна и попыток иностранных пожертвований в американские кампании, — проходит несколько общих линий.
Во-первых, его убеждённость, что мир стал менее управляемым, чем во времена жёсткого режима взаимного гарантированного уничтожения и раннего ДНЯО.
Во-вторых, ощущение, что крупные государственные структуры — от ЦРУ до Пентагона — обладают слишком большими ресурсами и слишком слабым контролем, чтобы автоматически действовать ответственно.
И, наконец, взгляд изнутри на то, как решения, принимаемые в закрытых кабинетах, постепенно размывают и юридические рамки, и этические ограничения — от «усиленных допросов» до секретных списков шпионских угроз, где рядом оказываются как формальные союзники, так и официальные противники США.
Сам Кириаку в интервью не претендует на роль единственного носителя истины, но описывает мир так, как он его видит: опасным, непредсказуемым и всё меньше подчиняющимся тем правилам, которые были написаны после Второй мировой войны — именно чтобы предотвратить новую глобальную катастрофу.








